Анна Северинец
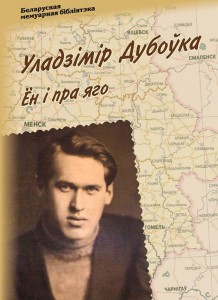 Писатель Анна Северинец написала и издала с помощью фонда Светланы Алексиевич удивительную книгу. Эта книга – о СЧАСТЛИВОМ белорусском поэте.
Писатель Анна Северинец написала и издала с помощью фонда Светланы Алексиевич удивительную книгу. Эта книга – о СЧАСТЛИВОМ белорусском поэте.
В первом предложении Анна Северинец пишет: «Ты – Пушкин, я перед тобой только Державин», – так сказал молодому Владимиру Дубовке Янка Купала».
В Беларуси поэтов уничтожали уже за то, что они писали на родном языке. А потому ясно, что лучшего должны были убить непременно.
Чтобы узнать историю страны, достаточно полистать список упомянутых в книге авторов: Головач Платон Романович (1903 – 1937); Гарецкий Максим Иванович (1893 – 1938); Дубовка Язеп Николаевич (1910 – 1938); Дудар Алесь (1904 – 1937); Чарот Михась (1896 – 1937)…
Герой книги Анны Северинец поэт Владимир Дубовка в лагерях, тюрьмах и ссылках провел 28 лет, с 1930 по 1958. Но (о, счастливчик!) остался жив.
Этапы (в прямом и переносном смысле) большого пути Владимира Дубовки легко проследить по содержанию книги. Вот они:
Огородники, Мядель, Новая Вильня. 1900- 1918
Москва, Красная Армия, литературный институт имени В.Брюсова. 1918 – 1924.
Москва – Минск. 1924 – 1930.
Бутырская тюрьма, Минская тюрьма. Арест, следствие, этап. 1930 – 1931.
И дальше, вплоть до 1958 года, – тюрьмы, лагеря, ссылки.
Режиссер Отар Иоселиани любит рассказывать такую байку. Как-то лесник привел его на заброшенный, труднопроходимый участок леса. «Смотри, здесь когда-то был бор, росли красивые, высокие сосны и стройные березы. Потом их срубили. Но через годы лес восстановился. А когда срубили второй раз, третье поколение не смогло подняться, лес одичал, все заросло осиной и бузиной. Вот так же и с людьми, если уничтожить два поколения, третье не возродится».
«В голоде и в холоде жизнь его прошла» – пели когда-то про красного командира Щорса. Это же могли бы спеть и о жизне «счастливого» поэта Дубовки. Но песен пока нет. В Гродно стоит памятник Щорсу, хотя тот никогда не бывал в Беларуси. Памятника, да что там памятника, ни одной памятной доски в честь великого поэта Дубовки нет в его стране. Третье поколение?.. Вместо сосен – бузина?
Или всё не так печально, и третье поколение – это как раз мое, поколение брежневских веселых бездельников, пьяниц и циников? А поколение возрождения вот это – четвертое? И книга Анны Северинец – доказательство тому? Хочется верить.
Так вышло, что я был последним, кто видел в Минске Владимира Николаевича Дубовку. Об этом по просьбе Анны написал. Вот эта зарисовка.
Последнее застолье
С Владимиром Николаевичем Дубовкой я познакомился в январе 1976 года.
Был яркий зимний день. Мы с женой и нашей совсем еще крошечной трехмесячной дочерью, с тестем Сергеем Афанасьевичем и тещей Галиной Васильевной Михальчуками и их сыном Сашей недавно переехали из центра Минска на его окраину, в Курасовщину. Кажется, дом еще даже и не отапливался, потому что помню какие-то электрорадиаторы для обогрева.
Дубовка и Михальчук приехали из издательства, где Сергей Афанасьевич дал Владимиру Николаевичу авторские экземпляры его детской книги. Мне кажется, она называлась «Золотые зярнятки».
На фоне щуплого Михальчука Дубовка казался огромным. Да он и был большим. Как Дед Мороз, шумно, с какими-то приговорами, потея и задыхаясь, доставал он из дорожной сумки московские гостинцы. В руке у поэта была палка, на которую он опирался. Не трость, а что-то такое серьезное, основательное, с резной деревянной или костяной ручкой.
Теща с моей женой стали накрывать на стол, а тесть знакомил меня с Дубовкой, говорил какие-то очень славные и добрые о нем слова, и Дубовка еще больше краснел и махал руками.
Память очень ярко рисует картинку того дня сороколетней давности. Солнечный зимний полдень, яркий снег на школьном стадионе за окном, неспешная застольная беседа, центром в которой был красивый человек, похожий на партизана с белой бородой из какой-то хрестоматии. А вот слов не помню. Помню, что мне очень хотелось побольше разузнать о сибирском периоде жизни Дубовки. Набрался ли я смелости? Скорее всего, нет. Да и речь все время шла о том, что скоро(может, летом?) он вновь приедет в Минск, и тогда будет больше времени пообщаться, а не как сейчас – набегу.
Когда Дубовка узнал, что я родом с Кавказа, рассказал, что тоже жил на Кавказе, в Зугдиди. Спросил, бывал ли я в Мингрелии.
Вечером у Дубовки уходил поезд на Москву. Владимир Николаевич долго и шумно прощался, обещал моим теще и тестю передать привет своей жене, Марии Петровне, с которой они были знакомы.
Телефона в доме еще не было, и я сбегал на площадь Казинца на стоянку такси и привез к дому машину. Провожали Дубовку с нашего второго этажа до крыльца всей семьей. И вообще казалось, что это была не встреча с именитым, много повидавшим писателем, а семейный праздник, таким Владимир Николаевич был радушным, доброжелательным, столько тепла было в его словах, в улыбке, во всем, как он вел себя.
Я проводил его на вокзал, занес вещи и помог устроиться в купе.
Однажды, месяца через два, тесть приехал домой расстроенный. Он подошел к столу, за которым я печатал на машинке, и сказал мрачно:
– Можешь отвлечься?
– Могу, – сказал я. – Что случилось?
– Дубоука помёр, идзем на кухню, помянем. Добры быу чалавек. Таких заусёды мала было, а зараз и навогул няма.
Теща накрыла стол, и мы выпили водку, поминая Дубовку. А Сергей Афанасьевич – даром что фронтовик и инвалид войны, – был раним душевно, и вытирал кулаком слезы, когда рассказывал о «Маладняке», о мытарствах Дубовки по тюрьмам и лагерям, о том, как потеряли они с Марией Петровной сына…
И я понял тогда, что если ты чего-то не сделал вовремя, потом не наверстаешь. Я постеснялся расспросить Дубовку и проиграл как журналист.
Зато потом, если я встречал на своем пути такую же яркую личность, как Дубовка, я не ждал больше повода, а сам лез с расспросами.
Значит, можно и так сказать: Владимир Николаевич Дубовка косвенно помог мне в моей журналистской работе. Для меня это очень важно.
Александр Росин
Владимир Дубовка в переводе на русский язык:
Дорогая… любимая… золотая…
Может, слышишь, как мне нелегко?
Или косы твои расплетают
где-то там, далеко-далеко…
Моё сердце дрожит под рукою,
но на сердце я зла не держу.
Днём и ночью не знаю покоя,
а кому я об этом скажу?
Пометавшись меж тьмою и светом,
я глаза закрываю, устав.
Ты безмолвным мелькнёшь силуэтом,
немотой запечатав уста.
Как листва в сентябре хороводит,
мои мысли кружат в пустоте.
Только тени унылые бродят
и угрюмо крадутся вдоль стен.
Ухмыляются слева и справа,
своей злобы ко мне не тая.
Чем мы, милая, им не по нраву,
что пророчат они – «не твоя»?
Золотая… любимая… дорогая…
Пусть сгорю и в аду пропаду,
но одно я доподлинно знаю,
что иду я к тебе и приду.
Перевод с белорусского Кастуся Северинца.
